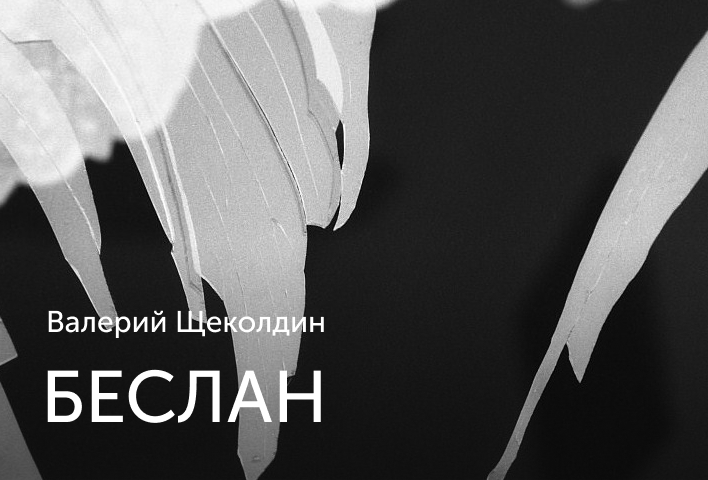От фотографа, вернувшегося из Беслана, привыкшего снимать репортажи, ломающие пространство широкоугольной оптикой, возможно, ожидали жестких фотографий, ужасов, трагически искаженных лиц, что было бы вполне естественно в ситуациях, когда перехлестывающие через край эмоции способны выжать слезы из камня. Однако фотограф привез на этот раз почти спокойные по композиции фотографии застывшего горя, когда оно от невозможности выразить его и от сдерживаемой муки переходит в абсолютную нравственную категорию, - и как это ни дико и странно звучит - в абсолютную красоту страдания.
Для съемки фотограф во многих случаях использовал сильный телеобъектив, к услугам которого ранее почти не прибегал. И не только из-за естественной тактичности, свойственной любому фотографу, снимавшему в экстремальных обстоятельствах и тонко чувствующему ту грань возможного, за которую не следует переходить. И не только потому, что телеобъектив помогал ему "спрессовать" пространство трагедии и сконцентрировать боль и горе почти обезумевших от него человеческих масс. Телеобъектив позволял, как алмазом, "вырезать" из толпы героев драмы и оставить их наедине с собой своими столь хрупкими и интимными переживаниями, касаться которых непозволительно даже сверхчувствительной пленкой и весьма просветленной оптикой.
Касаться которых позволительно только обнаженным и чутким сердцем, не боящимся ожога от испепеляющего горя и - удара от немилосердной судьбы.
Прилетев на место событий после их трагического разрешения, - в котел бушующих и еле сдерживаемых страстей, фотограф, как барометр, безошибочно предсказывающий бурю, бродил по ее краю, как по лезвию готового к драке ножа. Возмущение зрело и поднималось до точки кипения. Агрессивно вела себя молодежь, и даже дети ощущали себя народными мстителями. К фотографу нередко относились неприязненно и настороженно, справедливо видя в нем ненужного и соглядатая, а также "бизнесмена", творящего свой чудовищный бизнес на чужой для него крови.
Десятилетний мальчуган на панихиде по своему убитому в школе отцу хвостиком ходил за подозрительным ему фотографом, мешал ему в съемке, а потом прямо спросил, сколько ему платят за каждый кадр и сказал, что, по его мнению, фотограф заработал уже достаточно и должен теперь уйти. Мальчика не могли успокоить и переубедить даже взрослые, хотя их авторитет на Кавказе не подвержен сомнению. На других похоронах молодые парни с угрюмыми и решительными лицами коротко говорили: "Здесь снимать не надо!" И они тоже были правы, защищая честь и горе своей семьи: на Северном Кавказе не принято публично изливать свое горе перед "чужаками".
В атмосфере Беслана вместе с горем было растворено недоверие: ожидали терактов и других провокаций. Все понимали, что цель, которую преследовал захват заложников в школе, не достигнута: вооруженный конфликт между Осетией и Ингушетией не возник, гражданская война не вспыхнула - все ждали новых преступлений террористов, каждый новый человек был на подозрении. На улицах к фотографу не раз подходили и предупреждали, что за каждым шагом его следят и чтобы он писал только правду. В гостиницу к нему в отсутствие хозяина "заглядывал" ОМОН, устраивая обыск в номере. Тем не менее, день за днем фотограф проходил многие километры, истаптывая шаг за шагом этот осажденный чудовищным горем город, ныряя в переулки, заглядывая в укромные дворы, нередко сливаясь с толпой, которая шла соболезновать родственникам и знакомым.
Весь город тогда ходил в гости друг к другу - слезами обменивались точно хлебом. Это зримое единение всех горожан в одну большую горюющую семью потрясало не меньше самой трагедии, и это хотелось убедительно запечатлеть. Но фотография, увы, не всесильна, не всемогуща; одних только изобразительных возможностей ее не хватает, когда трагедия растворена в атмосфере. Возможно, для этого требовалось брать еще и пробы воздуха и исследовать потом в химических лабораториях его состав на предмет концентрации горя и сочувствия к нему, приходящегося на каждую израненную душу населения. Как бы там ни было, но бродячий фотограф дышал этим воздухом и нес свое добровольное бремя и не смел от него отделаться, прикрываясь циничным профессионализмом.
Было пасмурно; лили дожди; почва на кладбище совершенно раскисла; слезы мешались с дождем и падали в жидкую грязь. Ноги скользили, люди толпились у края могил с риском туда свалиться. Такого скопления людей и гробов на тесном пространстве в одно и то же время мне не приходилось ранее видеть. Старухи голосили, матери молча и отчаянно обнимали и покрывали поцелуями дорогие тела детей. Обувь вязла в грязи; дождевая вода струилась за воротник, расползалась по объективу, стремясь просочиться внутрь. Поглощенные своим горем, люди совсем не обращали внимания на фото- и видеосъемку: дождь своими слезами, казалось, уравнивал всех. После похорон автобусы везли людей на поминки. Во дворах были накрыты столы. Дождь лил, почти не переставая, капли падали в стакан разбавляя вино. Внимания на него уже не обращали: все промокли до нитки, и обувь хлюпала как насос. Водка обжигала горло и гнала застывшую кровь. Произносились традиционные тосты, зубы рвали остывшее вареное мясо, жевали подмокший лаваш. Питье и еда, как привычная и несложная работа, отвлекали от черных мыслей, водка по-немногу развязывала языки. Кто-то плакал, кому-то уткнувшись в плечо...
Расползались по своим домам со своим неделимым горем. Шок начинал проходить, мозги начинали работать, мучительно приходило осознание постигшей беды, душа болела и ныла, как отсиженная нога. И трудно было после такого крушения убедить себя, что нужно зачем-то жить... Но жизнь, как всегда, брала свое... Застарелой к себе привычкой...
И когда он избыл свой долг, он уехал поездом, провалявшись двое суток на верхней полке и почти не слезая с нее, не вступая в дорожные разговоры, не отвечая ни на настойчивые приглашения разделить трапезу, ни на приставания с докучными вопросами, усиливая тем самым к себе понятный, но несносный интерес и, возможно, даже подозрения. Конечно, он вел себя глупо; но после увиденного и пережитого впору было принять обет молчания. По крайней мере, пустая болтовня была ему непереносима.
Вернувшись домой, он почувствовал, что ему совершенно неинтересно, что у него получилось на пленке: самое важное у него уже произошло в душе. Но это хотелось забыть. Во всяком случае, не хотелось баламутить душу воспоминаниями и новыми переживаниями, рассматривая проявленную пленку. Информационные ленты международных агентств были заполнены кровавой информацией из Беслана, и он не чувствовал себя обязанным поделиться хоть с кем-то своей. Его добытая информация лежала на дне его души. И, возможно, была бы похоронена навсегда, но фотографа убедили, что его свидетельство беспримерной трагедии тоже нужно - и вот оно перед вами. Оно пристрастно, неполно, но искренно. А можно ли больше требовать от человека; существа, ограниченного буквально во всем? А чего можно требовать от с рождения глухонемой фотографии? Того же - искренности. И еще, может быть, - глубины резкости пристрастно изображаемого пространства.
Валерий Щеколдин