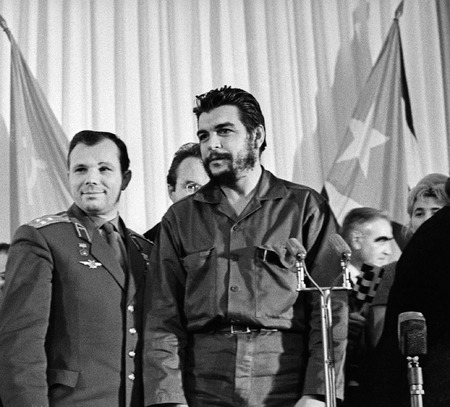В Манеже открылась «Ретроспектива» Виктора Ахломова. Три сотни снимков, показанные МДФ в рамках проекта «Классики российской фотографии», заставляют задуматься о грани между репортажем, хроникой и архивом, а также о том, чем наивность и лакировка действительности отличаются от человечности и оптимизма.
Статьи о Викторе Ахломове, многократном лауреате World Press Photo, так и пестрят словами «мастер», «мэтр» и «классик». Да и выставка — отнюдь не первая: ахломовские работы мы постоянно видим в тематических и сборных экспозициях, персоналки у него уже также были. Но знают его не только специалисты-профессионалы или постоянные посетители вернисажей. Именно по снимкам Ахломова, печатавшимся с конца
Советское прошлое — тема ныне популярная и непростая. Местами даже скользкая. Еще 10 лет назад его было принято ругать, сейчас наоборот модно захваливать то, что было до перестройки и крыть последними словами дальнейший ход событий. Удержаться на грани вдумчивого, взвешенного и слегка дистанцированного взгляда на совсем недавнюю историю, тесно связанную с настоящим до сих пор не перерезанной пуповиной, непросто. Особенно если речь идет о человеке, чьи фото не только «запечатлевали», но и иллюстрировали газетные статьи с их непосредственной реакцией и быстро меняющейся оценкой происходящего. Здесь все дело в расстановке акцентов, в отсутствии фальшивых нот, в мельчайших нюансах — а столь тонкое вчувствование в материал еще остро актуальный, но уже архивный, мало кому удается. Но как кажется, автору снимков и кураторам выставки это оказалось по плечу.
Лейтмотив пресс-релиза — «фотограф хорошего настроения». Именно так, говорят, должна была называться и сама ретроспектива. Подзаголовок исчез. Возможно потому, что экспозиция получилась намного шире, чем первоначально заявленная тема. А может быть потому, что слово «оптимизм» в стране, где долгое время запрещалось «очернять советскую действительность» — слишком затертое, а то и просто нежелательное к употреблению в среде думающих людей. Не так давно альтернативой государственному строительству светлого будущего путем замалчивания не всегда радостного настоящего было открытое диссидентство или молчаливый уход в частную жизнь, а то и вовсе в дворники с кочегарами. Те, кто жил в то время, помнят, что газета «Известия» выбирала здесь свой путь. В пику проправительственной «Правде» и тем более оголтело-партийной «Совраске», она всегда была мягче, интеллигентнее и оппозиционнее (конечно, в рамках дозволенного в официальном печатном органе).
Таков и Ахломов
Другое качество ахломовских работ — особенная, визуальная, не нуждающаяся в словесном объяснении ирония. Вот плакат «Берегите природу — мать вашу» — оказывается, это не анекдот. Или загадочная надпись «Арта апарцине попорулуй. Ленин» (это «Искусство принадлежит народу» на молдавском; Кишинев, 1975) — как тут не вспомнить один фильм про вождя, где Ленин говорил «Салям алейкум, Феликс Эдмундович». Или вот — слегка намекающие на абсурд снимки: огромная фотография Брежнева движется перпендикулярно общему потоку людей на демонстрации (экскурсовод рядом вспоминает булатовскую 1977 года «Улицу Красикова») или серп и молот, вырастающие кукишем из земли. Не слишком ли утонченным является их протест, не переоценил ли
Странное чувство испытываешь на выставке Ахломова. Его снимки «застойного времени» не вызывают ностальгии или желания вернуться в ту эпоху — однако они не рисуют и картинки прошлого, где все черным-черно. Но таковы же и его более современные серии вроде «Жизнь в переходе». На одной из этих фотографий картонного Горбачева уносят — и на его место становится фигура Ельцина. Это острое ощущение быстро уходящих, в последний момент остановленных камерой реалий прошлого, от которых щемит в груди, сочетается у Ахломова с непривычным, негативным и позитивным одновременно, чувством вневременности, всеобщности происходящего. В нем нерешаемые, быстро забываемые, но все те же самые при самых разных строях проблемы маленького человека перед лицом давящей государственной машины разрешаются в виде продолжающегося, всепобеждающего потока жизни. Вот фото «Дворники» (1970), с которого на нас смотрят современные лица «понаехавших» — потерянные, испуганные взгляды пришельцев в большой, отторгающий их город полны все той же неистребимой надежды на лучшую жизнь. И тут же начинаешь думать — где проходит граница между современным, недавним и совсем далеким, между еще продолжающимся и уже ушедшим в вечность — и какую роль в этом разграничении играет именно фотография?
Так получилось, что за пару дней до выставки Ахломова я беседовала с Антанасом Суткусом. Мэтр литовской фотографии рассказывал мне о своем собственном, былом, ушедшем тихом сопротивлении — через противопоставление личного, частного, человеческого кричащему, государственному, массовому. Говорил он и о том, что сейчас этот интерес к человеку во многом потерян — среди современных темноты и пессимизма он чувствует себя почти динозавром и поэтому перестал снимать и только разбирает свой архив, ставший вдруг комментарием к настоящему. Наверное, тогда, несколько десятилетий назад некоторые снимки «газетчика» Ахломова могли быть среди того, чему противопоставлял себя Суткус. А теперь оба они, два этих мэтра, с их тактичным интересом к человеку, которому никогда не шла в ущерб увлеченность формой, с их взглядом на мир, одновременно архаично-светлым и трезвым, вдруг оказались плечом к плечу. Но акценты от этого не сместились — тоталитаризм остается тоталитаризмом, подлость — подлостью, а добро — добром, и это тоже — совершенно немодный и от этого вдруг ставший остросовременным взгляд на вещи.